Эдисон Денисов - Signes en blanc | Текст песни
Мария Паршина, фортепиано
Запись 1994 года
_________________________
Произведение написано по просьбе венгерского пианиста Адама Феллеги. Пьеса очень тихая и довольно длинная. Она идёт в тех исполнениях, которые мне больше всего нравятся, около 16 минут.
Эпиграф здесь как ключ, который настраивает слушателя сразу на нужный тон, на нужную мне волну: «И появилось королевство, но оно было замуровано белизной». Очень красивый образ. Именно поэтому я всегда прошу, чтобы этот эпиграф был опубликован во всех программах, когда исполняется эта пьеса.
У меня здесь всё отдано именно разным краскам, отдельным мазкам разным: и небольшим, почти акварельным красочным знакам, и, напротив, даже очень крупным, и очень ярким звуковым пятнам самой разной формы и подачи. Но в основном, всё-таки, — это мягкая и даже нежная сонорная акварель: почти вся пьеса написана на двух-трёх и четырёх piano, и лишь в конце есть такой небольшой прорыв, точнее даже крошечный прорыв — напряжение красок: идут флажолет — тихие обертоны у рояля, и тут же чуждые им звуковые пассажи, которые буквально врываются сюда со своей резкой совершенно инородной структурой. И в конце, после последнего такого пассажа, опять неожиданный слом: рояль беззвучно берёт си-мажорный аккорд, который здесь буквально «высвечивается» — оказывается удивительно светлой краской; затем luftpause — воздушная тишина — и этот си-мажорный почти призрачный аккорд вдруг разрешается в реальность: пианист уверенно, но мягко берёт хоральный чистый ми-мажорный аккорд — почти доминанта и тоника.
Надо сказать, что паузы в этой пьесе играют вообще очень большую роль. Причём это не пустые паузы, ни в коем случае. Это паузы звучащие, это тишина настолько иногда напряжённая или, напротив, наполненная какой-то особой поэтичной мягкостью, которую не возможно получить только одними звуками.
Вся пьеса опять-таки, как это не печально, начинается у меня с ноты ля, которая повторяется несколько раз, и затем «расщепляется» на 2 звука си-бемоль и соль-диез и затем вся эта мелодическая интонация непрерывно варьируется, а затем появляется другой элемент — гармонический — это последовательности хоральных аккордов — тихие-тихие, немножко звучащие как quasi-челеста, и просто отдельные созвучия — светлые сонорные перезвоны, берущиеся в быстром темпе и на педали. И ещё здесь важно большое и долго обыгрываемое полутоновое облако, которое ведёт своё происхождение от основной хроматической интонации — ля – си-бемоль – соль-диез. В дальнейшем, вся драматургия пьесы выстраивается на взаимодействии всех этих элементов. Однако важнейшие из них — это мелодическая интонация b-a-gis и хоральные построения. Оба они варьируются непрерывно и, как правило, нигде не возвращаются (во всяком случае, намеренно) в одном и том же виде: каждый аккорд, он всегда даёт новое хоральное звучание, каждая интонация всё время меняет свой облик. И ещё есть третий элемент, который, хотя им и завершается вся пьеса, играет для меня здесь второстепенную роль — это вот такие как будто мазки: различные по характеру звучания, различные по своему красочному состоянию и по рисунку звуковые фигуры, которые иногда звучат без педали, но чаще всего, всё-таки, образуются с педалью; это вот такие, как бы quasi-импровизируемые, «всплески-пассажи», которыми, собственно, и заканчивается вся последняя страница сочинения. Но, если вы обратили внимание, то здесь вся эта ритмическая структура, она вся скрыто опирается на жёсткий, крупно пульсирующий и мерный ритм очень замедленных, как бы quasi-колокольных, «ударов», или, скорее, даже призраков таких ударов. Это то, что держит всё время в сочинении, не дает ему расползтись при любых ритмических импровизациях…
Эдисон Денисов еще тексты
Сейчас смотрят
- Эдисон Денисов - Signes en blanc
- Jason Mraz - Freedom Song
- дин дон - ТётЯ поля..)
- Для танцев) - James Blunt--"You`re Beautiful"
- Ali - I have a girlfriend (Immortal Song 2)
- Jay sean and Tupac Amaru Shakur - ride it be
- Tarja Turunen - I Walk Alone - I Walk Alone - Иду Одна - Text
- Селин Дион - The whispers in the morning
- 43. Руки Вверх - Полечу за тобою (минусовка)
- Disko - Voyage, Voyage
Оценка текста
Статистика страницы на pesni.guru ▼
Просмотров сегодня: 1
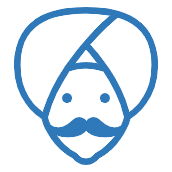 Гуру Песен
Гуру Песен