Дмитрий Воденников - любовь бессмертная, любовь простая | Текст песни и Перевод на русский
может быть, и не обладает большой художественной
ценностью.
Но условия моей духовной жизни таковы,
что если бы я все это не написал, я бы
перестал себя уважать.
А этого я никак не могу допустить.
1. ОЛИН СОН.
Началась война. Паника. Эвакуация.
Ей говорят: «В соседнем здании ваш муж».
Она бежит туда, не зная, кто выйдет: я или Женя.
Навстречу ей выходит ее папа. Правда, он молодой,
с фотографии, она таким его не знала.
Он говорит ей: «Доченька, Вам надо уезжать».
Ему 25, ей — 38.
* * *
Есть фотография одна
(она меня ужасно раздражает),
ты там стоишь в синюшном школьном платье
и в объектив бессмысленно глядишь
(так девочки всегда глядят,
и в этом смысле мальчики умнее).
Прошло лет 25
(ну 26),
и скоро почки жирные взорвутся
и поплывут в какой–то синеве.
Но почему ж тогда так больно мне?
А дело в том,
что с самого начала
и — обрати внимание — при мне
в тебе свершается такое злое дело,
единственное, может быть, большое,
и это дело — недоступно мне.
Но мне, какое дело мне, какое
мне дело — мне
какое дело мне?
2. ОЛИН СОН, ПОВТОРЯЮЩИЙСЯ.
Чужая ночная комната.
Меня бьют, с унижением, по моей же вине,
в сущности, опускают.
Сон повторяется так часто, что она даже выучила
узор на обоях.
Но однажды что–то случается. Я говорю одну фразу,
и мои мучители расступаются. Я подхожу к двери и открываю ее.
Первый раз она видит, как я спускаюсь по лестнице,
выхожу на улицу.
Там прошел дождь. Я иду по мостовой. На мне светлый плащ.
Оля просыпается. Сон больше не повторяется.
* * *
И все чего я заработал
своими жалкими стихами
(весь этот незабвенный срам),
и то, что я теперь стою
пред девочками и пред мужиками
(как правило, все больше пожилыми) —
все это тоже не прикрыть руками
[чё ты уставился? ведь я ж — одетый,
а, правда,
кажется,
что щас разденусь я?] —
так вот — за это,
именно за это,
за это все — не оставляй меня.
3. ЕЩЕ ОЛИН СОН.
Большое сборище народа. Я на сцене. Все сидят.
Почему–то я читаю Нобелевскую лекцию, хотя меня
об этом никто не просит.
Там есть такое место: «Правда — это оружие слабого.
Ложь — это оружие сильного. Ибо в первом случае
ты перекладываешь ответственность на других,
во втором — берешь ее на себя».
Заканчивается же лекция словами: «Ну получил я вашу
премию. А дальше?»
Все встают.
4. * * *
Вот так все время ощущаешь жизнь,
она в тебе и под ногтями,
она гремит в тебе костями,
а ты лежишь в ее кармане,
как тварь последняя дрожишь.
А я глаза закрыл
и головой мотаю,
но все равно зеленый весь от страха.
Я, между прочим, умереть могу.
Так вот зачем
меня ты, боже, лупишь:
ему приспичило, ему приятней,
когда я сам, как голая скворечня,
как будто муравейник раскурочен,
иль как жевачка липну к утюгу.
Естественно, что так оно и нужно.
По–видимому, это даже лестно.
Но я чего–то не пойму:
в поту,
в пальто,
в постели,
на ветру
(мне в самом деле это интересно) —
окрепший, взрослый, маленький, умерший —
хотя бы раз я нравился — Ему?
6.
Любые отношения — это своего рода реабилитация.
Это, в некоторой степени, уговор двух людей
(ну от силы трех), что они будут поддерживать
друг друга, не дадут пропасть на грани гудящей
пустоты или распада.
Впрочем, Оля тоже хороша. Я ей диктую по телефону:
«окрепший, взрослый, маленький, умерший», —
а она говорит: Ну что — опять про бедного срулика?
О господи,
чего еще не знаю
о смерти я
( да ничего не знаю),
но если хоть чего–то стою я
(а хоть чего–нибудь я все–тки стою)
[Гандлевский, Кочнев, Руднев, Морев, я] —
пожалуйста, любимая, родная,
единственная, смертная, живая,
из всех, из нас,
любая смерть, любая
но только не твоя.
7. И последнее. Мне — снится сон.
Я — Лев Толстой и е
Дмитрий Воденников еще тексты
Сейчас смотрят
- Дмитрий Воденников - любовь бессмертная, любовь простая
- Группа "Элемент 17" - 06. ИНТРИГА
- I the Mighty - The Lying Eyes of Miss Erray (Post-Hardcore.COM)
- Стекловата - стекловата
- Александр Градский - Песня Рыбы-пилы (м/ф "Голубой щенок")
- Нурдаулет Азимханов - Глаза карие карие,губы сладкие-нежные...
- ОТ РЕНАТА ДЛЯ ТАТКЕ Ирина Билык & Дмитрий Дик - Для всех нас просто нет...Отключен телефон,в глазах надежды след.Признаний полутон.Томление огня и тени силуэт молчанья глубина.Для всех нас просто нет…
- Ronan Keating - Only For You
- Дана - Қыз қиялы
- Autostrad - Kanabay
Оценка текста
Статистика страницы на pesni.guru ▼
Просмотров сегодня: 1
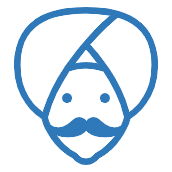 Гуру Песен
Гуру Песен