Григорий Данской - В темпе падающего снега | Текст песни
Скрипач повис, бледней прокисшего над ним неба.
И комната промокла изнутри фисташковым светом.
И наверху смеются горьким и густым... снегом.
А где-нибудь по декабрю летят дрожки,
Дрожащим перышком гусиным и стружки,
Снежком рифмованным вдоль столбовой строчки
Ложатся все стежки да стёжки. Так вечно.
Но вечно выпало из словаря, лишь \"веко\",
Прикрыв ресницами всю наготу века,
Средь декабря вдруг выпустит не дождь - слёзы,
Всё потому, что скрипка. Скрипко и... скользко...
Скользила скрипка ввысь. При ней скрипач взвешен
В воздушном броуновском хаосе зала.
И сердце наподобие двух сросшихся вишен.
То было взвешено, а то и витало.
Бабахнул Бах! Вот это джаз! Арт! Моцарт!
Кричит с балкона скрипачу: \"Давай, Мойша!\"
И капал снег в концертный зал, как до-ре-ми - ноты
И непонятно было с кем ты, где ты и кто ты.
Снег становился смехом наверху. Толчёных облаков горстью.
Снег превращался в соль, что выше соль-бемоль, но солоней, горше.
А боль, что по краям бемоль, съедая сердцевину, становилась болью.
И снег звучал, чистейший соль, и был на вкус солью.
Когда? В какие времена такая музыка лилась с неба?
И мне, скрипач, от царского смычка, плесни хотя бы такт снега!
Я буду лакомиться им, покуда тишина не перехватит горло,
Укоротив гортань до лаконичного и тихого горя.
Покуда зал - есть мир, который зол, но милосерднее иных прочих,
Покуда Бог здесь - Бах, пока поэт про это не соврал ни строчки.
А дрожки мчат по декабрю, все дальше, выше по гамме,
Сжимая звук до точки на кардиограмме.
Колеблясь между \"тик\" и \"так\", как между \"был\" - \"не был\",
Висит скрипач, бледней прокисшего над ним неба.
И комната промокла изнутри фисташковым светом,
И наверху смеются горьким и густым снегом.
Григорий Данской еще тексты
Сейчас смотрят
- Григорий Данской - В темпе падающего снега
- Maron 5 - Sunday morning
- A.S. - Give It to Me (feat. Nelly Furtado And Justin Timberlake)
- Музыка для тренировок - Track 3-самая лучшая музыка только у нас,заходи к нам--||vk.com/the_ray_music||
- Eminem vs Rihanna - Love The Way You Lie (Feat. Rihanna)
- laka laka - Bum - bum chaka - chaka
- Francis Vace - Spell (feat. Itchigotchi)
- Elton JOhn feat. Billy Joel - Goodbye yellow brick road
- Теория Света - Я люблю метал! (Тату кавер версия)
- Достар - Сенсин жаным
Оценка текста
Статистика страницы на pesni.guru ▼
Просмотров сегодня: 1
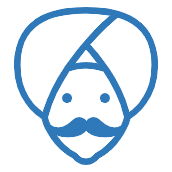 Гуру Песен
Гуру Песен