ВаДжи - Борис П. и Зинаида И. [Music: Nuttkase] | Текст песни
Стены лысели, выходит, как и хозяин под пледом, спёртым однажды из вагона в память о победах, взлётах, о советах и упрёках.
Наполняя дымом “Примы” лёгкие, в сотый раз листая Данте,
вдавливал окурок в дно консервной банки,
как всегда замер на втором круге ада комедии.
А друзья-то где? Внуки да дети у них. Семейные. Гля, ох*еть, как летит время-то…
А он всё бы отдал за шанс стать как они -
лаконично молчать и ночами слушать треск камина да бранить врача.
Борис Петрович в этом счастье видел чьё-то, но Эдем-то он везде, где нас нет.
Этаж разил мочой, он извлекал из ящика почтового, вздыхая, очередной счёт за свет.
Фонари гасли, темнело во дворах,
осень сметала листья с крыльца ДК ветром.
Пожилой мужчина в старом пальто,
оставался незамеченным серым пятном,
только не торопился домой
пожираемый желанием быть услышанным,
но мир глухой, немой и напыщенный
гнал его, гнали все, кроме футляра старого подмышкой.
Зинаида Ивановна - женщина кроткая, из пород таких,
что и в горе моют полы, готовят и стирают.
Но годы-то давят болью осознания, и боль курсирует по комнате
да плотно пакуется в чемоданы.
После мчится в поезде в сторону родного края с сельмагом и очередями,
с собаками и вечерами, одинаково тихими, тёмными,
с дико сплетёнными звуками шелеста листвы и соседской ругани,
огородами, слухами, детьми и внуками,
что депрессуют, впитывая безумие сутками, скукой окутанные.
“Покуда тоску-то терпеть им, дети ведь?” - она думала,
сидя на кухне, наслаждаясь звуком, что издают струны
по ту сторону забора. Вспоминала мужа Бориса.
А ведь что-то было.
Ну, ничего, ведь каждый может ошибиться.
Имеет право.
Она включила телевизор и пропала, как во сне,
в общем потоке сериалов и новостей.
Фонари гасли, темнело во дворах,
осень сметала листья, намекала на близость зимы.
Так постаревшая женщина ровняла пряди седые, горбила плечи,
но не искала собеседников, так ведь легче тихий быт вести.
А там и речи стихли на миг - то ли привыкла, то ли слух стал подводить.
ВаДжи еще тексты
Сейчас смотрят
- ВаДжи - Борис П. и Зинаида И. [Music: Nuttkase]
- RW - RBX
- Тина Кузнецова - Ваня (Голос2)
- Рамштайн - Allein (feat. Stahlzeit)
- V $ X V PRiNCE - Я Не Хочу-у-у-у
- Joe Dolan - Answer To Everything
- Каста - Ревность"Настольгия"
- Егор Летов.Посев - На исходе дня
- Южаков Сергей (гитара) - время
- Machine Gun Kelly (MGK) - Her Song
Оценка текста
Статистика страницы на pesni.guru ▼
Просмотров сегодня: 2
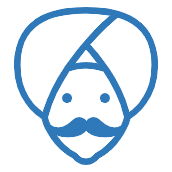 Гуру Песен
Гуру Песен