Avokushra - Художница и пианист | Текст песни
Склонившись над инструментом, он касается до бемоль;
Не заглядывая в пюпитр, не сутуля широких плеч,
Он играет, шепча молитву, парцеллируя свою речь.
И раскладывается на спектр долгожданный хмельной ноктюрн,
А в стекло, в отраженье света бьётся моль, презирая хмурь,
Бьётся сердце, как при пробежке, стучит, как мигрень в виске.
На солнечном побережье его ноты сожмут в руке.
Пианист поправляет галстук, завернувшийся воротник,
Шрамик трёт на худом запястье, его внутренний «я» поник:
Он всего лишь хотел как прежде, а теперь вот якшайся тут!
В закате на побережье его ежечасно ждут.
Воздух свежий, корично-мятный в оконный проём влетел;
На кресте Иисус распятый обещает сохранность тел.
Пианист загрустил у двери, он остался совсем один:
Даже моль для конечной цели запорхала искать камин.
Пианист, чертыхаясь «вечно так», вызвал скорей такси;
Таксисту кто-то на встречной кричал: «Дальний свет гаси!»
В сумерках побережья кто-то смотрит в морскую даль.
Таксист с пианистом спешно несутся на магистраль...
Звезда загорелась в небе — а может, её уж нет?
Он отгибает стебель, проскальзывая к воде.
Ещё загорелись звёзды, лунный рожок повис,
И был разговор серьёзный, и шёпот сливался в свист:
«В обнимку на крепкий мостик, на деревянный пирс
Идут сего мира гости: художница и пианист...»
Текст: © Виктория Аршукова, 2013
http://vk.com/avokushra
Avokushra еще тексты
Сейчас смотрят
- Avokushra - Художница и пианист
- А.Т.Гречанинов "Страстная седмица" - №4 "Свете тихий"
- Легенды Про и Центр - Мой потресканый
- John Cale - Allilyay (OST House M.D)
- Molly Stone (Jared Emerson-Johnson) - Ballad of the Forresters
- KAit Brener & KAif - Вместе [Не будем никогда...]
- Снежинка - Иисус Христос воскрес! Аллилуйя! Аминь!
- Ewa Demarczyk - Jaki mieszny | Типичный Эмигрант | Польша | Варшава | Вроцлав | Краков | Люблин | Лодзь | Гданьск | Быдгощ | Белосток | Катовице | Гдыня | Познань | Щецин | Жешув
- Protest ND - Верь в лучшее ! в память Дена Beregа / 1 куплет написал Ден Bereg
- Gasteza - ..желаю тебе счастья и на лице улыбку, желаю встретить свою половинку..хочу что бы ты была счастлива пусть и не со мной..
Оценка текста
Статистика страницы на pesni.guru ▼
Просмотров сегодня: 1
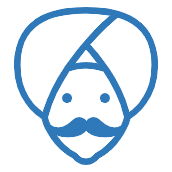 Гуру Песен
Гуру Песен