A. Dol'skiy - Staraya Bogema | Текст песни
привитой двойным воспитанием,
хочется за воротник ухватить
свою жизнь, как продажную тетку,
и допросить, опуская кавычки,
(да черт с ним - с питаньем!)
про мою (про мою!) Ариаднину нить,
что в России свивается в плетку.
В эти годишки, когда доживаешь
лохматый десяток,
все и так уже ясно,
но ясное - глухо и слепо.
Как простуду в себе дожимаешь
надежды остаток,
и в хлеву ощущаешь себя ежечасно
то брюквой, то репой.
А во дворце моей Песни
уже завелись тараканы,
и в хрустальных бокалах аккордов
вино помутнело от грусти,
и родимые воры все лезут
ко мне и в стихи, и в карманы.
Хоть от песен меняются маски на лица
порою, но в генах вода и капуста.
И чем Лучше Умеешь,
тем больше клопов на обоях.
Пусть бы их, но любили бы тело,
дающее яства.
Вот и снятся-все змеи,
снега голубые да злые гобои.
А проснешься - вокруг тебя смело
тусуются шара с халявством.
Но теперь выпускают (на Запад),
и я удостоился чести.
Второпях обалдело свой брекфест
бесплатный съедая в отеле,
по европам галопом, как лапоть,
скользя на автобусном месте,
понимаю, чего эти карлы и фридрихи
с Вовой и Левой (блин) так не хотели.
И за счет этих блоковских скифов,
которыми мы оказались,
отреклись все от Нового Мира
(в виду не журнал я имею).
Окровавлены пальцы железками грифов,
а запах азалий
позабыт и от глупого текста
балдеет толпа и не хочет сонет и камею.
Это правильно, это прекрасно -
пусть нам кое-что остается.
Так что - Жизнь, дорогая моя, -
ты не тетка мне - мама родная.
И люблю я тебя не напрасно
и пью из родного колодца.
Хоть с отравой водичка его,
но зато он без дна и без края.
Не дописана поэма,
не окончена соната,
но Богема, но Богема
старой музыкой богата.
По зиме или по лету, -
под ногами снег и листья,
а в карманах сигареты,
письма, крылья, хлеб и кисти.
Ты для публики не тема...
Бог тетрадь твою листает...
Но Богема, но Богема
по глазам тебя узнает.
И в толпе тебя отыщет,
приведет к огню и крову.
Будет день и будет пища,
будет Музыка и Слово.
A. Dol'skiy еще тексты
Сейчас смотрят
- A. Dol'skiy - Staraya Bogema
- Дюран - Come Undone
- Sugarplum Fairy - Another Apple In My Mouth
- Thousand Foot Krutch - E For Extinction OST Air Gear Ikki vs Ringo
- Viennese Waltz / Венский вальс - Венский вальс - Nomansland (David's Song) - www.vk.com/club18113215
- Многоточие - Холодное солнце в апрельских лучах, Как точки, зрачки в бесцветных глазах, Синее небо напоминает о лете, Баяны и дозы на смятой газете, Тело знобит, как...
- The Aristocrats - The Aristocrats 2011
- Amanda Woodward - On Les Aura Bien Plombes Les Yeyes
- The Cranberries vs.Counting Crows - Dreams vs.Mr.Jones(Mashup)
- Callow - Asleep
Оценка текста
Статистика страницы на pesni.guru ▼
Просмотров сегодня: 1
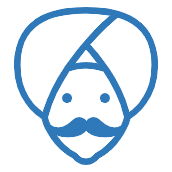 Гуру Песен
Гуру Песен