Саша Басник - Иосиф Бродский, "20 сонетов к Марии Стюарт", фрагмент второй | Текст песни и Перевод на русский
Париж не изменился. Плас де Вож
по-прежнему, скажу тебе, квадратна.
Река не потекла еще обратно.
Бульвар Распай по-прежнему пригож.
Из нового - концерты за бесплатно
и башня, чтоб почувствовать - ты вошь.
Есть многие, с кем свидеться приятно,
но первым прокричавши "как живешь?"
В Париже, ночью, в ресторане... Шик
подобной фразы - праздник носоглотки.
И входит айне кляйне нахт мужик,
внося мордоворот в косоворотке.
Кафе. Бульвар. Подруга на плече.
Луна, что твой генсек в параличе.
VIII
На склоне лет, в стране за океаном
(открытой, как я думаю, при Вас),
деля помятый свой иконостас
меж печкой и продавленным диваном,
я думаю, сведи удача нас,
понадобились вряд ли бы слова нам:
ты просто бы звала меня Иваном,
и я бы отвечал тебе "Alas".
Шотландия нам стлала бы матрас.
Я б гордым показал тебя славянам.
В порт Глазго, караван за караваном,
пошли бы лапти, пряники, атлас.
Мы встретили бы вместе смертный час.
Топор бы оказался деревянным.
IX
Равнина. Трубы. Входят двое. Лязг
сражения. "Ты кто такой?" - "А сам ты?"
"Я кто такой?" - "Да, ты". - "Мы протестанты".
"А мы - католики". - "Ах, вот как!" Хряск!
Потом везде валяются останки.
Шум нескончаемых вороньих дрязг.
Потом - зима, узорчатые санки,
примерка шали: "Где это - Дамаск?"
"Там, где самец-павлин прекрасней самки".
"Но даже там он не проходит в дамки"
(за шашками - передохнув от ласк).
Ночь в небольшом по-голливудски замке.
Опять равнина. Полночь. Входят двое.
И все сливается в их волчьем вое.
X
Осенний вечер. Якобы с Каменой.
Увы, не поднимающей чела.
Не в первый раз. В такие вечера
все в радость, даже хор краснознаменный.
Сегодня, превращаясь во вчера,
себя не утруждает переменой
пера, бумаги, жижицы пельменной,
изделия хромого бочара
из Гамбурга. К подержанным вещам,
имеющим царапины и пятна,
у времени чуть больше, вероятно,
доверия, чем к свежим овощам.
Смерть, скрипнув дверью, станет на паркете
в посадском, молью траченном жакете.
XI
Лязг ножниц, ощущение озноба.
Рок, жадный до каракуля с овцы,
что брачные, что царские венцы
снимает с нас. И головы особо.
Прощай, юнцы, их гордые отцы,
разводы, клятвы верности до гроба.
Мозг чувствует, как башня небоскреба,
в которой не общаются жильцы.
Так пьянствуют в Сиаме близнецы,
где пьет один, забуревают оба.
Никто не прокричал тебе "Атас!"
И ты не знала "я одна, а вас...",
глуша латынью потолок и Бога,
увы, Мари, как выговорить "много".
XII
Что делает Историю? - Тела.
Искусство? - Обезглавленное тело.
Взять Шиллера: Истории влетело
от Шиллера. Мари, ты не ждала,
что немец, закусивши удила,
поднимет старое, по сути, дело:
ему-то вообще какое дело,
кому дала ты или не дала?
Но, может, как любая немчура,
наш Фридрих сам страшился топора.
А во-вторых, скажу тебе, на свете
ничем (вообрази это), опричь
Искусства, твои тати не постичь.
Историю отдай Елизавете.
XIII
Баран трясет кудряшками (они же
- руно), вдыхая запахи травы.
Вокруг Гленкорны, Дугласы и иже.
В тот день их речи были таковы:
"Ей отрубили голову. Увы".
"Представьте, как рассердятся в Париже".
"Французы? Из-за чьей-то головы?
Вот если бы ей тяпнули пониже..."
"Так не мужик ведь. Вышла в неглиже".
"Ну, это, как хотите, не основа..."
"Бесстыдство! Как просвечивала жэ!"
"Что ж, платья, может, не было иного".
"Да, русским лучше; взять хоть Иванова:
звучит как баба в каждом падеже".
Саша Басник еще тексты
Сейчас смотрят
- Саша Басник - Иосиф Бродский, "20 сонетов к Марии Стюарт", фрагмент второй
- Fike feat. Jambazi - Minimum (мини мама)
- Best Music (BM) - ★ღ•°♥ Listen to your heart (Club Van Date remix)★ღ•°♥ - I know there's something in the wake of your smile, I get a notion from...
- afr - У ночного огня, под огромной луной
- Log Dog - Держи крепче (минус)
- Чёрный Лукич и Егор Летов - Первое мая
- Renaud - Morgane de toi
- Ангел, который так рано ушел туда, откуда не вернется - Эта песня посвящается Виктории Прокопович , которая повесилась 29.12.13...ей было 11 лет.Вечная память тебе Солнышко!=* Помним, Любим, Скорбим
- А. Смирнов - Вперед ползёт КАМАЗ
- Вселенная огромна !! - А где-то в небе, под криком богов. Падают вниз, не удержав бесконечных оков. Не замечая слов, и не видя снов. Падают мимо ослов, и снобов, мимо строк и снова.
Оценка текста
Статистика страницы на pesni.guru ▼
Просмотров сегодня: 2
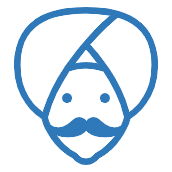 Гуру Песен
Гуру Песен